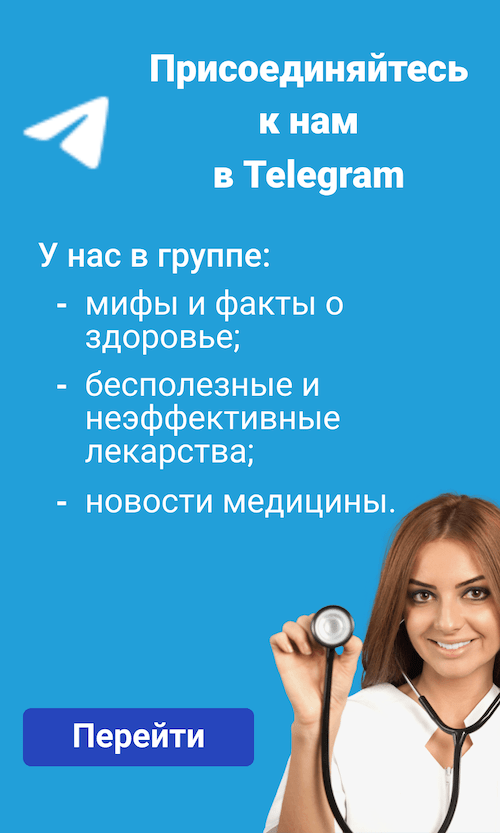Дигоксин при раке молочной железы – панацея найдена?

Интерес к ингибиторам натрий-калиевой АТФазы как противораковым средствам возник давно. Еще в 1979 году Stenkvist и коллеги, наблюдая пациенток с раком молочной железы, принимавшим сердечные гликозиды, и сравнивая гистологические характеристики опухолей у женщин, получавших дигоксин, с контрольной группой, обнаружили, что у пациенток, принимавших дигоксин, опухоли имели меньшую степень злокачественности (более низкий гистологический индекс), что указывало на потенциальное влияние препарата на прогрессию рака1.
Однако в силу ряда причин это открытие было отложено в долгий ящик.
Но новое исследование, кажется, заставляет посмотреть на дигоксин и его «братьев» более серьезно2.
Старая добрая наперстянка
Дигоксин — это препарат, традиционно используемый для лечения сердечной недостаточности и аритмий
Еще в 1775 году Уильям Витеринг (биолог по образованию), заметил, что чай на основе наперстянки помогает избавиться от отеков при сердечной недостаточности. Он провел исследования и ввел в употребление первые препараты, основой которых был дигоксин – главное действующее вещество экстракта наперстянки. К сожалению, главные принципы Витеринга – осторожность в назначении средства и стандартизация процесса его приготовления – были проигнорированы, что привело к большому числу случаев выраженных побочных реакций и, как следствие, к отказу от препарата примерно на 100 лет. С конца 19 века ученые пытались добиться снижения токсичности препаратов Витеринга, однако ни один из методов не привел к разработке безопасных лекарственных средств на основе наперстянки.
Решение пришло откуда не ждали: известный химик-фармацевт Карл Шееле вместе со своим товарищем, композитором эпохи барокко Мишелем Ламбером устроили на очередном заседании академии наук то, что теперь назвали бы агрессивной пиар-компанией. Они выступили с громким заявлением о полезных свойствах наперстянки и добились разрешение на продолжение ее изучения. Буквально через пару лет Ройер выделит основной действующий компонент этого растительного сырья, что положит начало использованию сердечных гликозидов3.
Последнее из известных к настоящему времени свойств сердечных гликозидов – влияние на симпатический тонус, то есть нейромодуляторное свойство, – было описано Фергюсоном в 1989 году.
Как ни странно, до понимания сферы применения препаратов наперстянки медицинская наука тоже шла долго. Вначале «фитодигоксин» рассматривали как мочегонное или рвотное средство, и лишь в начале 20 века ученые обратили внимание на положительное инотропное воздействие, оказываемое наперстянкой. Окончательно положительный инотропный эффект был доказан только в 60-х годах ХХ века работами Сонненбрик. После этого сердечные гликозиды на двадцать лет заняли свое почетное место в современной кардиологии как препарат для больных с хронической сердечной недостаточностью.
Однако на данный момент практически все представители этой группы (кроме дигоксина) либо имеют историческое значение, либо очень ограничены в применении. Так, например, внутривенное введение сердечных гликозидов может быть реализовано лишь при тахисистолической форме мерцательной аритмии.
Причины перепрофилирования
Странная с первого взгляда идея о том, что дигоксин может применяться при раке молочной железы, возникла не на пустом месте.
Ей предшествовала новая практика так называемого «перепрофилирования» лекарств – то есть процесса определения новых терапевтических показаний для «старых», то есть зарегистрированных ранее и доступных лекарственных средств, в рамках которой, например, давно известный препарат дексаметазон спас множество жизней во время пандемии ковид.
Основными источниками гипотезы успешности дигоксина при раке молочной железы являются несколько исследований.
Так, стартовые изучения Na + /K + АТФазы, мишени дигоксина, показали, что она участвует в регуляции сигнальных путей (например, пути Src/MAPK и PI3K/AKT), которые часто гиперактивны при раке. Неудивительно, что первой мыслью ученых было, что подавление этого фермента (как это делает дигоксин) может нарушать жизнеспособность раковых клеток.
Примером исследований этого типа может быть исследование группы Чжана 2011 года, которое изучало влияние дигоксина на пролиферацию и апоптоз на клеточных линиях рака молочной железы (например, MCF-7 и MDA-MB-231), показавшее, что введение дигоксина увеличивало латентность и снижало рост ксенотрансплантатов опухолей, тогда как лечение уже существующих опухолей приводило к остановке роста в течение одной недели. Усиленная экспрессия HIF-1α путем трансфекции не ингибировалась дигоксином, а ксенотрансплантаты, полученные из этих клеток, были устойчивы к противоопухолевому действию дигоксина, что демонстрирует, что HIF-1 является критической мишенью дигоксина для терапии рака. Эффект был более выражен в гормонозависимых линиях (MCF-7)4.
Также в ретроспективных исследованиях было замечено, что у пациентов, принимавших дигоксин по кардиологическим показаниям, частота некоторых видов рака, включая рак молочной железы, была ниже, чем в контрольных группах. Это натолкнуло ученых на мысль о возможном защитном эффекте препарата.
Примером этой группы эпидемиологических по характеру исследований может быть датское ретроспективное когортное исследование, в котором изучалась связь между использованием дигоксина и риском развития рака молочной железы у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование показало, что у женщин, принимавших дигоксин, наблюдалось снижение риска рака молочной железы на 20–30% по сравнению с контрольной группой5.
Также следует упомянуть мета-анализ, проведенный Platz и другими в 2015 году, которые оценивали смертность в группе людей, принимавших дигоксин и β-блокаторы, а также пытались понять, есть ли преимущества у дигоксина перед последними и могут ли β-блокаторы также быть средствами лечения рака. Также этот мета-анализ включил данные нескольких когортных исследований о связи дигоксина с различными видами рака, включая рак молочной железы.
Согласно его результатам, в группе дигоксина наблюдалась более высокая смертность от всех причин, чем в группе β-блокаторов в течение 4 лет и 8 лет наблюдения, что доказало, что для лечения кардиологической патологии использование дигоксина не имеет преимуществ по сравнению с β-блокаторами.
Однако авторы выявили неоднозначные данные: в некоторых группах риск рака молочной железы снижался, в других – повышался, что может быть связано с дозировкой и длительностью приема, что заставило их прийти к выводу у необходимости дополнительных клинических испытаний6.
Перспективы применения дигоксина при раке молочной железы
Как уже говорилось выше, дигоксин был выбран в качестве потенциального кандидата на перепрофилирование благодаря его способности ингибировать натрий-калиевую АТФазу. Основной интерес к дигоксину в этом контексте связан с его влиянием на клеточные процессы, такие как пролиферация, апоптоз и сигнальные пути, которые играют ключевую роль в развитии рака.
Перспективы включают:
- Ингибирование пролиферации опухолевых клеток. Дигоксин может подавлять рост раковых клеток, воздействуя на натрий-калиевую АТФазу, что приводит к изменению внутриклеточного ионного баланса и нарушению сигнальных путей, связанных с делением клеток.
- Индукция апоптоза. Препарат способен активировать программируемую клеточную смерть, что особенно важно для уничтожения раковых клеток.
- Синергия с химиотерапией. Некоторые исследования предполагают, что дигоксин может усиливать эффект традиционных химиотерапевтических препаратов, снижая резистентность опухолей.
- Доступность и изученность. Как давно используемое лекарство с известным профилем безопасности, дигоксин может быть относительно легко перепрофилирован для онкологических целей.
Однако возможности дигоксина всегда были ограничены его узким терапевтическим окном и потенциальной токсичностью, что требовало дальнейших исследований для определения оптимальных дозировок и режимов лечения.
Новое исследование
Новое исследование, кажется, делает перспективу применения дигоксина при раке молочной железы более радужной.
Ученые провели проспективное открытое исследование с целью проверки концепции у женщин с метастатическим раком молочной железы, где основной целью было определить, может ли лечение ингибитором Na+/K+ АТФазы дигоксином уменьшить средний размер кластеров CTC (кластеры циркулирующих опухолевых клеток, с наличием которых связывают прогрессирование заболевания и снижением выживаемости при различных типах рака). При раке молочной железы доклинические исследования показали, что ингибиторы Na+/K+ АТФазы подавляют кластеры CTC и блокируют метастазы.
В результате у девяти пациенток, получавших ежедневно поддерживающую дозу дигоксина, было обнаружено среднее уменьшение размера кластера на −2,2 клетки на кластер после лечения, что соответствует первичной конечной точке исследования. Механистически транскриптомное профилирование CTC выявило снижение регуляции межклеточной адгезии и генов, связанных с клеточным циклом, при лечении дигоксином в соответствии с его активностью по растворению кластеров. Неблагоприятных явлений, связанных с лечением, не наблюдалось.
Таким образом, результаты исследования представляют собой первое в истории человечества доказательство принципа, что лечение дигоксином приводит к частичному растворению кластеров CTC, что открывает окно возможностей для проведения более масштабных последующих изысканий с использованием усовершенствованных ингибиторов Na+/K+ АТФазы.
Примечания
- 1. Evidence of a modifying influence of heart glucosides on the development of breast cancer
- 2. Digoxin for reduction of circulating tumor cell cluster size in metastatic breast cancer: a proof-of-concept trial
- 3. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
- 4. Digoxin and other cardiac glycosides inhibit HIF-1α synthesis and block tumor growth
- 5. Digoxin use and the risk of breast cancer in women
- 6. Digoxin and risk of cancer: A systematic review and meta-analysis