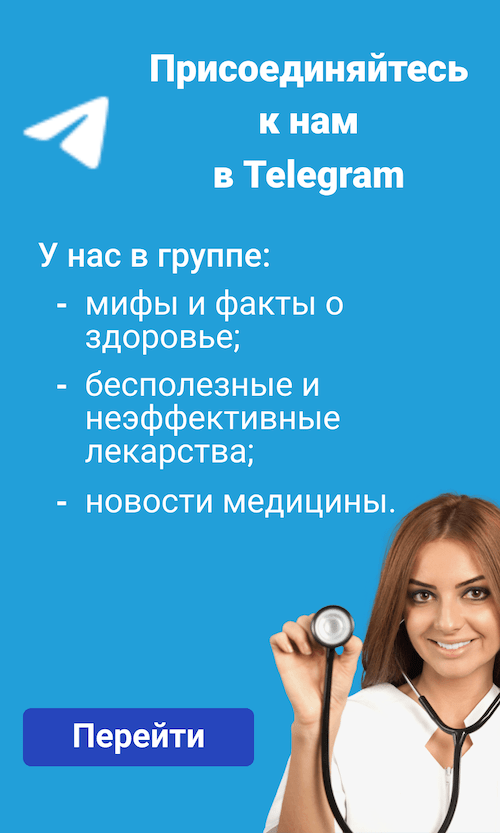Антибиотикорезистентность у бактерий и НПВП – кто виноват?

Открытие и производство антибиотиков в первой половине прошлого века по праву считается одним из величайших достижений медицины. Их применение снизило заболеваемость и смертность людей и способствовало существенному увеличению продолжительности жизни, и долгое время в медицинском мире царила эйфория, так как казалось, что идеальное средство против бактерий найдено, поскольку, как тогда полагали, частота мутаций, приводящих к появлению резистентных бактерий, незначительна.
К сожалению, история доказала обратное. Микробы отреагировали на «охоту» на себя, адаптируясь к изменившейся среде и развивая устойчивость к антибактериальным средствам при помощи огромного количества разнообразных механизмов. Более того – возникновение резистентности началось фактически до того, как был описан пенициллин.
Так, например, первая β-лактамаза была идентифицирована в Escherichia coli до того, как первый антибиотик допустили к использованию в медицинской практике. β-лактамы и аминогликозиды были теми группами антибиотиков, на которых бактерии «учились» выживать и «тестировали» новые механизмы защиты от химических ядов. Наиболее неожиданной оказалась способность микробов к обмену генами, которая сейчас известна под названием «горизонтальный перенос генов».
Наконец, в середине прошлого века медики признали – бактерии адаптируются слишком быстро. Это состояние назвали антибиотикорезистентностью, то есть устойчивостью к воздействию антибиотиков.
Устойчивость к антибиотикам как угроза здравоохранению
Устойчивость к антибиотикам представляет собой серьезную глобальную угрозу для общественного здравоохранения, поскольку проблема столкновения с устойчивыми к антибактериальным средствам микробами может возникнуть у любого человека, независимо от его возраста, пола, социального статуса, расы или места проживания. Этот феномен напрямую ответственен за такие неблагоприятные последствия для здоровья людей, как длительная госпитализация, увеличение расходов на лечение, перегрузка системы общественного здравоохранения, рост риска летального исхода. Кроме того, лекарственная устойчивость потенциально может привести к тому, что у врачей банально не останется средств для лечения бактериальной инфекции1.
Ситуация выглядит настолько угрожающей, что уже в 2018 году Всемирная организация опубликовала список патогенов, устойчивых к антибиотикам, состоящий из 12 групп бактерий, которые ранжируются по трем категориям – критические, высокоприоритетные и среднеприоритетные. Отбор и распределение основывались на срочности потребности в антибиотиках, степени угрозы, представляемой для здоровья человека (риск летального исхода, продолжительности госпитализации, показателей приобретения устойчивости к существующим антибиотикам и скорости передачи между животными или от животных к человеку или от человека к человеку), возможности предотвращения инфекции, доступности вариантов лечения и того, находятся ли уже новые антибиотики для лечения вызванных упомянутыми патогенами инфекций в стадии исследований и разработок.
К критической категории отнесли бактерии, распространенные в ургентных отделениях различного типа, где пациентам для обеспечения надлежащего ухода требуется катетеризация и/или аппарат искусственной вентиляции легких. В основном, это возбудители сепсиса и пневмонии. Категории высокого и среднего приоритета, помимо возбудителей указанных выше патологий, были представлены патогенами, отвечающими также и за другие виды инфекций.
Несмотря на то, что в базе процесса приобретения устойчивости лежит естественное явление, его скорость является ненормально быстрой, и поддерживается она, в первую очередь, неправильным использованием антибиотиков у людей и животных.
Так, на протяжении многих лет многочисленные экологические исследования показывали, что избыточное потребление антибиотиков способствует возникновению антибиотикорезистентности у различных родов бактерий. Примерами связи между дозировкой антибиотиков и развитием резистентности являются рост метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA) и ванкомицин-резистентных энтерококков (VRE). Первые MRSA появились в 1960 году, а VRE – в конце 80-х, и долго оставались главными «пугалами» антибиотикорезистентности.
Однако позже оказалось, что и не антибактериальные средства могут внести свою лепту в развитие устойчивости к антибиотикам.
Механизмы развития антибиотикоустойчивости
Бактерии избегают воздействия антибиотиков благодаря следующим механизмам2.
Модификация цели (Target Modification). Этот механизм подразумевает изменения в структуре или экспрессии молекулярных мишеней антибиотика (например, рибосомы, ферменты или клеточная стенка), что снижает сродство препарата к цели. Бактерии могут мутировать гены, кодирующие эти мишени, или регулировать их экспрессию. Примерами могут служить: снижение сродства пенициллин-связывающих белков к бета-лактамным антибиотикам, снижение сродства метилированных рибосомальных РНК-мишеней к макролидам, клиндамицину и хинупристину у устойчивых форм S. aureus, снижение сродства предшественника измененной клеточной стенки к ванкомицину (например, у Enterococcus faecium), снижение сродства ДНК-гиразы к фторхинолонам у резистентного к ним S. aureus.
Активный выброс антибиотика наружу (эффлюкс). Грамотрицательные бактерии экспрессируют множество так называемых эффлюксных насосов, способных транспортировать самые разнообразные молекулы, включая антибиотики, из бактериальной клетки наружу. Этот процесс снижает внутриклеточную концентрацию антибиотиков, позволяя бактериям выживать при более высоких концентрациях. Повышенная экспрессия некоторых эффлюксных насосов может приводить к клинически значимому уровню антибиотикорезистентности у грамотрицательных патогенов3.
Ферментная инактивация. Бактерии продуцируют ферменты (например, β-лактамазы, аминогликозид-модифицирующие ферменты), которые гидролизуют, фосфорилируют или ацетилируют антибиотик, делая его неактивным. Этот механизм особенно распространен у грамотрицательных бактерий. Классическим примером является продукция бета-лактамаз, инактивирующих пенициллины в устойчивых к пенициллину Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, и Escherichia coli4.
Снижение проницаемости наружных мембран. Грамотрицательные бактерии уменьшают проникновение антибиотика через внешнюю мембрану путем уменьшения белков-поринов (действующих как поры, через которые могут диффундировать молекулы) или изменения липополисахаридного слоя. Это часто сочетается с другими механизмами. Примером может служить утрата D2 порина наружной мембраны у резистентной к имипенему синегнойной палочки5.
Биопленкообразование. Некоторые бактерии могут формировать биопленки – сообщества, защищенные от внешних воздействий благодаря особой структуре. Эта структура состоит из экзополисахаридов (альгината, Psl и Pel), внеклеточной ДНК и белковых компонентов, формирующих матрикс. Биопленки обеспечивают бактериям защитную нишу, делая инфекции, вызванные, например, Pseudomonas aeruginosa, трудными для лечения6.
Персистенция. Персистентные клетки – это временное, устойчивое к антибиотикам состояние покоя бактерий, которое не связано с генетической мутацией и отличается от настоящей антибиотикорезистентности. В отличие от резистентных штаммов, которые растут в присутствии антибиотиков благодаря генетическим изменениям, персистеры временно приостанавливают рост и поэтому избегают действия антибиотиков, но при исчезновении препарата вновь активизируются и становятся чувствительными к нему7.
Горизонтальный перенос генов резистентности. Это процесс, при котором гены, обеспечивающие устойчивость к антибиотикам или другим антимикробным препаратам, передаются от одной бактерии к другой разными механизмами: трансдукцией (через вирусы), трансформацией (поглощение ДНК из среды) или конъюгацией (прямой обмен ДНК между клетками). Этот процесс играет ключевую роль в эволюции и распространении лекарственной устойчивости у бактерий8.
Описанные выше механизмы часто сочетаются (т.н. «мультирезистентность»), что усложняет лечение. По данным обзоров, горизонтальный перенос и эффлюкс – основные механизмы формирования антибиотикорезистентности в последние годы.
Не только антибиотики
До последнего времени было принято считать, что в формировании устойчивости бактерий виноваты, в основном, врачи и пациенты, а также фермеры, которые бесконтрольно назначают антибиотики животным, в том числе – «профилактически».
Так, например, рост распространения резистентных форм Escherichia coli, который наблюдается в Китае (62,8% устойчивых штаммов обнаружены у амбулаторных пациентов городских больниц в трех регионах провинции Шаньдун) отражал контакт с сельскохозяйственными животными в сельской местности. В Индии, где санитарно-гигиенические условия являются одними из самых худших на планете, 91% образцов человеческих фекалий несли гены устойчивости к хинолонам, а в Швеции, где гигиенические стандарты высоки – только у 24%9.
Животные, рыба и морепродукты, употребляемые в пищу, в странах с низким и средним уровнем дохода являются основными резервуарами антибиотикорезистентных форм бактерий из-за активного использования этих препаратов для профилактики и стимуляции. Считается, что в странах БРИКС наблюдается самое высокое потребление противомикробных препаратов для скота, которое, по прогнозам, увеличится на 99% в Бразилии, России, Индии, Китае и Южной Африке с 2010 по 2030 год10.
Однако оказалось, что в процессах формирования антибиотикорезистентности виноваты не только антибиотики.
Недавний обзор, оценивающий антимикробные свойства не антибиотических препаратов, показал, что более 200 лекарственных средств, которыми мы часто пользуемся в повседневной жизни, обладают антибиотикоподобным действием на кишечные бактерии11.
Не антибиотические препараты могут оказывать как прямое, так и косвенное влияние на развитие антибиотикорезистентности. Некоторые из них проявляют прямую антибактериальную активность, например, статины. Другие, например, ряд нестероидных противовоспалительных средств (НПВП), могут способствовать развитию перекрестной резистентности. Это включает в себя отбор механизмов резистентности, которые одновременно обеспечивают резистентность к антибиотикам. В качестве примера можно привести многокомпонентные эффлюксные насосы.
Бактерии также могут приобретать дополнительные механизмы резистентности, захватывая плазмиду, экспрессирующую факторы резистентности, в процессе, называемом трансформацией. Диклофенак является примером средств, которые может повышать эффективность трансформации, что приводит к увеличению приобретенной резистентности.
Ситуацию усугубляет и тот факт, что некоторые антибиотики, такие как ципрофлоксацин (фторхинолон), и не-антибиотики, такие как трамадол (слабый опиоид), не полностью расщепляются в организме и попадают в сточные воды с мочой и/или фекалиями. Попадая туда, они, а также метаболиты как антибиотиков, так и не антибиотических препаратов, оказывают комбинированное воздействие и создают идеальную среду для развития и распространения устойчивости к противомикробным препаратам.
Ухудшает положение и то, что человечество стареет, а вместе с увеличением количества стариков и развитием медицины увеличивается также и количество лекарственных препаратов, которые старики принимают для лечения своих хронических заболеваний. Причем часто количество лекарств у пожилого человека может достигать 9-10 разных наименований в день. Пожилые люди также представляют собой группу населения с высоким потреблением собственно антибиотиков, которые широко используются в домах престарелых для лечения инфекций мочевыводящих и/или дыхательных путей.
Поэтому неудивительно, что ученые активно исследуют особенности неантибиотических препаратов, способствующие возникновению резистентности у бактерий. Статья, опубликованная в конце августа этого года в журнале «Nature», освещает одно из таких исследований12.
Влияния НПВП на развитие резистентности к антибиотикам
В статье «Nature» идет речь о выявлении свойств увеличивать антибиотикорезистентность штаммов кишечной палочки к ципрофлоксацину у следующих широко используемых неантибиотических лекарственных средств: ибупрофен, диклофенак, ацетаминофен, фуросемид, метформин, аторвастатин, трамадол, темазепам и псевдоэфедрин.
Ципрофлоксацин был выбран не только потому, что является известным индуктором мутаций, но и потому, что часто используется в комбинации с упомянутыми выше лекарственными средствами – например, в лечении инфекций мочевыводящих путей, которые являются одними из самых распространенных бактериальных инфекций. Частое использование ципрофлоксацина привело к появлению резистентной к этому антибиотику Escherichia coli.
Восприимчивость к противомикробным препаратам мутантов, индуцированных исследуемыми неантибиотическими средствами, и механизмы, лежащие в основе наблюдаемой резистентности, были оценены с помощью секвенирования всего генома. Также была дополнительно изучена роль эффлюксных насосов, которые могут сверхэкспрессироваться в ответ на стресс и способствовать перекрестной резистентности. Для получения полного набора данных о чувствительности к антибиотикам в исследование были также включены эритромицин и новобиоцин, к которым, как известно, штаммы E. coli устойчивы.
В ходе исследования выяснилось, что ни одно из неантибиотических средств не проявило, даже в самой высокой исследованной концентрации, антимикробной активности против штаммов кишечной палочки, использованных учеными. В присутствии диклофенака, ибупрофена и ацетаминофена при наличии ципрофлоксацина скорость роста E. coli увеличилась, а лаг-фаза сократилась, что свидетельствует о том, что эти препараты повышают приспособленность и адаптивность кишечной палочки в стрессовых условиях, например, при росте в присутствии антибиотика.
Также ученые наблюдали увеличение мутаций при воздействии ибупрофена и ацетаминофена, по сравнению с воздействием одного только ципрофлоксацина, и повышение резистентности к ципрофлоксацину у отдельных штаммов E. coli.
Мутанты ибупрофен/ципрофлоксацин и ацетаминофен/ципрофлоксацин были потом отобраны для дальнейшей оценки и определения их профиля резистентности к другим антибиотикам. Так, например, оказалось, что эти штаммы практически все резистентны к левофлоксацину (что неудивительно, так как кишечная палочка использует одни и те же механизмы резистентности против этих хинолонов), а также, частично, к цефепиму. Интересно, что комбинированное воздействие ибупрофена и ацетаминофена индуцировало такую же частоту мутаций, как и применение только ибупрофена, а не приводило к кумулятивному увеличению частоты мутаций.
При использовании комбинации этих двух НПВП с другими препаратами оказалось, что в основном резистентность повышается у групп лекарственных средств, в которые входил ацетаминофен. А вот в группах с ибупрофеном резистентность была ниже, за исключением воздействия на штамм 6146, где она повышалась
При одновременном воздействии ибупрофена, ципрофлоксацина и ацетаминофена значительно увеличивалось количество мутантов E. coli, штамм BW25113. Геномный анализ выявил множественные мутации у мутировавших бактерий, подвергшихся воздействию неантибиотических лекарственных средств и ципрофлоксацина.
Также ученые обнаружили повышенную экспрессию эффлюксного насоса AcrAB-TolC, что свидетельствует о вовлеченности в процесс и этого механизма резистентности. Это, пожалуй, самое неприятное открытие этого исследования, так как на ранних стадиях развития устойчивости к противомикробным препаратам эффлюксные насосы играют ключевую роль, позволяя бактериям выживать при начальных субингибиторных концентрациях антибиотиков. Когда чувствительная бактериальная популяция подвергается воздействию низких доз антибиотиков, эффлюксные насосы могут временно снижать внутриклеточную концентрацию препарата, позволяя клеткам сохраняться и адаптироваться. Это окно выживания имеет решающее значение: оно дает бактериям время для активации стрессовых реакций и регуляторных сетей, которые повышают экспрессию эффлюксных насосов или других механизмов резистентности. Эти насосы действуют быстро и неспецифически, что делает их одной из первых линий защиты от противомикробных препаратов.
В связи с этим ученые предостерегают от комбинации ибупрофена или ацетаминофена с ципрофлоксацином – особенно у пожилых, у которых фторхинолоны используются очень часто.
Примечания
- 1. World health organization releases global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics
- 2. Общие механизмы резистентности к антибиотикам
- 3. Multidrug efflux pumps in Gram-negative bacteria and their role in antibiotic resistance
- 4. Acquired Antibiotic Resistance Genes: An Overview
- 5. Antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa: mechanisms and alternative therapeutic strategies
- 6. Antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa biofilms
- 7. Bacterial Persister Cell Formation and Dormancy
- 8. Естественное Сопротивление
- 9. Human, animal and environmental contributors to antibiotic resistance in low-resource settings: integrating behavioural, epidemiological and One Health approaches
- 10. Global trends in antimicrobial use in food animals
- 11. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria
- 12. The effect of commonly used non-antibiotic medications on antimicrobial resistance development in Escherichia coli